Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
17 апреля в московском Сахаровском центре прошла пресс-конференция «Родительской сети» — комитета родственников арестованных по «пензенскому делу» антифашистов. На ней выступили близкие Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова, Ильи Шакурского и Армана Сагынбаева. «Медиазона» записала и расшифровала их рассказы.
Татьяна Чернова, мать Андрея Чернова
Я мама Андрея Чернова, который задержан был в Пензе 9 ноября. Он был задержан последним из ребят, но, наверное, он не попал под то, подо что попали ребята — он был задержан, ну, наверное, для большего количества в сообществе, так как последнее время общался и с Димой (Пчелинцевым — МЗ) очень плотно, они занимались страйкболом вместе.
Он был задержан на работе, прямо в цехе, где он работал. Его забрали и сразу же надели на него наручники, при всем скоплении народу его увели. Больше мы о нем ничего не знали два дня. У меня там находится сестра, работает на этом же заводе, она два дня пыталась дозвониться — узнать, куда его вообще могли увезти. На заводе ж есть тоже какие-то как ФСБ или отдел, который занимается всем этим, но ей ничего не говорили.
Только через два дня стало известно, что он находится в СИЗО. По какой причине — мы этого не знали. Я сразу же выехала, как только узнала об этом, в Пензу. Я в Москве живу, мы даже предположить не могли, за что вообще могли забрать моего сына, потому что ничего противозаконного мой сын никогда не делал. Он не пьет, не курит, он вегетарианец у нас, занимается спортом, боксом любительским занимался, занимал призовые места — ездил в Москву. Занимался страйкболом, и, в общем, противозаконного ничего. То, что они были антифашистами, и взгляды у них эти — мне кажется, сейчас здесь за это много надо тогда задержать людей, если задерживать только за то, что у них такие взгляды.
Через два дня, когда мы его уже нашли, где он находится, он уже подписал все, что ему надо было подписать. Все, что ему дали, он подписал. На него оказывали просто давление, сказали тоже, что его посадят в камеру, что его, как это правильно назвать не знаю, в общем — и пытать, и во-первых, что у него есть брат, который остался… они двойняшки у меня. Что если он не подпишет — то [брат] тоже окажется с ним здесь.
Ну это, во-первых, самый аргумент был в ту пользу, что он все подписал, потому что допустить, чтобы брат еще здесь оказался — это было для него больнее всего, наверное. Через неделю, когда мы нашли адвоката и прислали его, адвокат, мы ему благодарны, конечно, он сумел его убедить и передать нашу просьбу, чтобы не подписывал ни в коем случае, отказался от всего, что он — неправду — сказал, мы смогли его убедить. Хотя с адвокатом они на первом же допросе… адвокат нам потом сказал, что он сорок минут препирался со следователем, чтобы заставить его написать те показания, которые мы даем, а не те показания, которые хочет он. Все-таки были записаны те показания, которые хотят Андрей и адвокат, но потом на него начали опять оказывать давление. Его, во-первых, с Димой столкнули, с Пчелинцевым, далее Дима был избит. В общем, [Пчелинцев] сказал ему: «Андрей: ты не выдержишь этого, подписывай все, что они тебе скажут». Андрею дали неделю. Он нам посылал письма короткие: «Скорей, пожалуйста, быстрей пришлите адвоката, я сделаю тогда все, как они просят, от всего откажусь». Смогли мы как-то удержать его от этих действий, хотя были и карцер — весь Новый год он там просидел — и до этого лезвия подбрасывали, за что его сажали в карцер, он сидел в одиночной камере.
Но пока мы сейчас отказались от всех тех показаний, которые они заставили его подписать, и сейчас пока держимся вот этого, с помощью нашего адвоката держимся. И как-то немножко надежду ему дали. Он всегда говорил: «Мам, это все бестолку, зачем адвокат, здесь в общем-то все бестолково, всех антифашистов всегда сажают, и оправдательных приговоров не бывает, они сделают так, как надо им».
Вот коротко о том, что мы знаем. Свиданий мне не дают с сыном, и не давали, потому что я — «неправильный родитель». Как говорит следователь, я не умею настроить сына на то, что надо, поэтому в свиданиях с сыном мне отказано до сих пор. У нас с ним видится только адвокат.
Светлана Пчелинцева, мать Дмитрий Пчелинцева
Дмитрия задержали 27 октября. О том, что происходит задержание, он знал, почему он не понимал, потому что явно понимал, что ничего противозаконного не сделал, никто никуда не прятался, не скрывался. Я немножко, может быть, забегу вперед: о том, как звучит обвинение — что это глубоко «законспирированная террористическая организация». Так вот, члены, по словам следователя, этой «глубоко законспирированной террористической организации– не скрывались, мало того — по их версии, разложили, кто оружие, кто — гранаты, кто — еще где-то в самых доступных местах, подходи, бери и меня забирай. В общем, ужасно, ужасно что происходит, и с другой стороны — смешно и несмешно. Глупо настолько, что, к сожалению, абсолютно все бессильны, чтобы что-либо доказать.
Дмитрия задержали, его подвергали жесточайшим пыткам, это и висел вниз головой, выходили уже в общем-то какие-то его признательные показания. Был адвокатский опрос, где он, спустя два месяца, дал показания, что его пытали, что все, что он сказал и оговорил себя — это с применением пыток. Это висел вниз головой, это подключение динамо-машины к пальцам. Доводили его до такой степени, что он сам писал, что «мне трогали на шее пульс и проверяли, чтобы я не умер от…». Я не могу это описывать. Ужас. Ужасные эти пытки, и это не один день, это не один час, это условия особые — находится всегда один в одиночной камере, это постоянный приход — постоянное общение с ним. Когда они хотят — заходят, свободно выводят и общаются.
Когда у нас появился второй адвокат из «Агоры», он сумел заговорить, он дал показания, что его пытали, что он себя оговорил. Ровно на следующий день он дает совершенно другие показания под камеру, потому что ночью к нему пришли сотрудники ФСБ, его опять пытали, он отказывается от своих показаний. Он говорит под камеру, что дал ложные показания, дабы себя избавить от уголовной ответственности, и все, что он сказал — все правда. Ему дают встретиться с женой в этот же день. Мы сына не видели ни разу. Она его видит просто истерзанным, избитым, это внешне все — не просто какие-то измученные глаза. Руки, лицо, ссадины, видны следы побоев. Адвокат наш все фиксировал, то, что он видел, и он (Пчелинцев — МЗ), естественно, [своей супруге] Ангелине говорит: «Пожалуйста, прекрати общаться со СМИ, это условие». Ему сказали — если продолжает общаться, то продолжается мера воздействия. Ангелина, естественно, больше общаться ни с кем не может, потому что ну как? Но у Димы есть, слава Богу, родители, и мы, естественно, хотим какого-то справедливого решения, какого-то справедливого суда, мы хотим защиты для нашего сына и других ребят из этой ужасной истории, чтобы они могли говорить правду, чтобы они себя не оговаривали, чтобы вообще, в конце концов, какая-то правда восторжествовала.
Сейчас он сидит, его никто не трогает. Их каждый день осматривают. Он все подписал, что нужно было подписать, он себя оговорил опять, дал те показания, которые нужны следователю для продолжения написания этого детектива, и его никто не трогает. Разговор о том, что он пойдет назад и будет давать какие-то показания, не идет, потому что ему сказали: «Как только ты разворачиваешься назад, мы приходим сразу к тебе и, в общем-то, ничего хорошего не будет. Будет все то же самое. Кроме того, мы имитируем твое самоубийство, и твоим родственникам покажем на камеру, ты это прекрасно понимаешь — мы это можем. Они увидят, что ты покончил с собой в этой камере, и все». Я понимаю, это может быть часть психологического давления, но человек, который неоднократно это перенес, наверное ему мало в этом приходится сомневаться. Я прекрасно понимаю, он хоть и взрослый мужчина — любой в этой ситуации будет бояться.
Дмитрий Пчелицнев, отец Дмитрия Пчелинцева
Узнал о задержании сына в Москве, я работаю в Москве. Моя мама, бабушка Дмитрия, сказала, что у нас дома идет обыск, и я ей сказал: «Пока никого не пускай, дай мне поговорить со следователем — ну, кто проводит обыск, со старшим». Он мне все объяснил, что сын подозревается в терроризме, и что-то еще наплел. Говорит, приезжайте завтра ко мне к девяти утра и поговорим. Ну я в машину прыгнул, до Пензы доехал, к 9 к нему приехал, простоял там часов до 11 — меня никто не вызвал, не пришел. Я сам позвонил дежурному, дежурный меня соединил со следователем Токаревым: «Мне не о чем с вами общаться — надо будет, я вас позову». Вообще-то меня позвали, по вашей просьбе я и приехал. Он не стал общаться, бросил трубку, и больше я с ним не общался. По сотовому телефону просто не брал трубку.
На следующий день был суд по мере пресечения. Адвокат был государственный. В этот же день я заключил договор с защитником Агафоновым, и он, когда дела получил, посмотрел решение суда: там описывалось от прокурора, насколько надо всех сажать. Меня просто убила формулировка, что «занимались незаконным овладеванием навыков выживания в лесу и оказания медицинской помощи». О чем тут можно говорить? Лепят из чего попало.
Характеристику, которая прикладывалась во время избрания меры пресечения, давал не участковый по месту проживания, а по месту пребывания у своей жены. Он его в глаза никогда не видел, этот участковый. Написал там полный бред. И у всех как под копирку [характеристики]. Мне было удивительно, потому что у Дмитрия было свое оружие гладкоствольное, по лицензии приобретено, травмат, и, так как у меня была операция, а я охотник, чтобы ружье не продавать, я попросил его, чтобы он оружие мое на себя перевел и получил лицензию. Если кто-то получал лицензию, наверно знает, что прежде чем выдать, собираются характеристики с места жительства, в том числе с участкового. То есть буквально в августе он был благонадежный человек, потому что у него была нормальная характеристика, и мое ружье на него перевели, а в октябре стал неблагонадежным, террористом.
Более того, скажу, что он работает в стрелковом клубе инструктором по практической стрельбе. Естественно, он им был как фигурант очень интересен, у него было под рукой всегда боевое фактически оружие — не только гладкоствольное, но и пистолеты Glock. И он фактически это оружие перевозил со склада в Пензе в стрелковый клуб, где люди приезжали и занимались стрельбой. Мне было непонятно, если следователи говорят, что за ними наблюдали, следили: стрелковый клуб получает лицензию, Дмитрий в этом клубе для получения лицензии проходил как инструктор — у него были корочки и инструктора, и судьи, все официально получено — и эти документы прикладываются для получения лицензии стрелкового клуба. Эти документы передаются в УВД и проверяются как МВД, так и ФСБ. Лицензию этот клуб получил в прошлом году в феврале. Со слов следователя, их «ведут» якобы с 2015 года.
Елена Стригина, мать Армана Сагынбаева
А мы долго держали глухую оборону — я с адвокатами договорилась, что мы молчим до какого-то времени «икс». Вот сейчас настал уже тот предел, за которым уже черта, пропасть. Нужно начинать говорить.
Вначале объясню, почему мы молчали. Некоторые это воспринимали совсем по-другому, я как-то читала в газете «Медиазона», что якобы он там работает со следствием и все прочее. Это не так — подписки, что он сотрудничает со следствием, нет, и этого не может быть, потому что он с ними не сотрудничает. Он также под пытками давал какие-то показания.
Ну, с чего все началось. Он со своей подругой жил в Петербурге, хотя сам из Новосибирска. Работал по удаленке программистом на новосибирский технопарк (мы из Академгородка, там есть технопарк свой). Он хороший программист, ну, самоучка, вуз, к сожалению, бросил. Но суть не в этом. Я знала, что он придерживается антифашистских взглядов, на это были причины. Они друзья с Пчелинцевыми, друг с другом общались. Ну, тоже как нормальный парень он занимался каким-то спортом – он играл в страйкбол. Я сама любительница пейнтбола, мы в Новосибирске на работе частенько этим занимаемся. Группами на работе — тоже меня можно в лесу встретить с оружием, в камуфляже, я НТВшникам показала даже свою фотографию и предложила меня арестовать, сдать. Поскольку они пришли от ФСБ — сдать меня ФСБ.
Причина нашего молчания. У него (Сагынбаева — МЗ) хроническое тяжелое заболевание на грани жизни и смерти. Когда его забрали, у него была температура под сорок, он находился в ужасном состоянии. Плюс, пока его везли из Питера в Пензу, применялись к нему, ну… Мы не заявляли об этом, но к нему применялись также пытки, пока его везли. Поэтому то, что он дал показания такие — это он подписал себе смертельный приговор в первую очередь, по-другому я не могу сказать.
Если бы не дал показания, он бы умер, да. Ему не давали лекарства. Когда меня вызвали в ФСБ в Пензу, я сказала: «Приеду с тем условием, если вы мне дадите свидание личное с ним — не через стекло, а лично, чтобы я его могла увидеть». Ну да, мне дали. Когда я зашла, он там за решеткой [сидел] в здании ФСБ, конечно. Когда я его видела, я ужаснулась. Он был в ужасном состоянии, он был в ужасном физическом и моральном состоянии. Его не лечили, и он еле стоял на ногах, он говорил: «Мне не дают лекарства, и мне там стало плохо. Я в кабинете следователя… мне было очень плохо. Они видели, что мне плохо». Я начала… Истерика-не истерика, что у меня там было. Я сказала: «Я дойду до президента, и покончу жизнь». И все, что я могла тогда… Ну (сквозь слезы), то, что я увидела тогда эту картину, это просто невозможно описать словами, в каком состоянии был он.
Начал показывать мне руки, ноги, пытался снять с себя какую-то обувь, показать, какие-то ожоги отчего-то. Там же я написала в прокуратуру и к начальнику СИЗО ходила, и все. Я уже привезла документы, подтверждающие его заболевание. Они, наверное, не верили, но им пришлось его лечить, потому что, как я сказала самому следователю: «Он у вас не доживет до суда, он же не доживет до суда». Когда ему реально там стало плохо, они стали его лечить. Сейчас они дают таблетки. Лечить, нет, лечить его надо дома. Поддерживают его жизнь, наверное. И поэтому это было основное давление — его даже больше пытать не надо, ему достаточно не давать эти лекарства. Все, он сам умрет.
У меня два адвоката, до какого-то времени договорились просто молчать. Дать [время], чтобы он пришел в себя. И хорошо, что его увезли в психушку — оказались там адекватные люди. За месяц, как он говорит, там отоспался, ему там какое-то лечение, даже подкормили — к нему медперсонал, по крайней мере, отнесся нормально. И сейчас я понимаю, что я даже сейчас рискую его жизнью. Не просто здоровьем — я рискую его жизнью. Наверняка они увидят эту пресс-конференцию. Я беру, я не знаю, на себя какую-то ответственность… Какую я могу на себя ответственность взять? Ну, наверное, просто риск, потому что молчать уже нельзя насчет этого.
В начале мне позвонили НТВшники — очень интересная такая была ситуация. Это было на прошлой неделе в четверг. Мне звонят с НТВ, а я уже как раз с родителями тогда стала общаться, что мы даем огласку, мы даем все. И я подумала, что НТВ — это, ну, как бы, хорошо, я согласилась на встречу. Я в начале договорилась на шесть часов на следующий день вечером, потому что они прилетают с Москвы. Думаю: «О, здорово! Как организовали-то все наши родители».
Но мне на следующий день — как раз в тот день, когда я должна была с ними встретиться —звонит следователь. И начал интересоваться:
— А ваш сын вам пишет?
— Ну, не знаю, все доходит или не все доходит, но пишет, да, что-то получаю.
— Лекарства ведь ему дают?
— Ну, сейчас он не жаловался, да, дают лекарства.
Я говорю:
— А что вас так заволновало, дают ему лекарства, не дают? Жаловался он, не жаловался.
— Ну, вот к вам приедут корреспонденты с НТВ, вы должны дать интервью.
Я задумалась и говорю:
— А почему я должна дать интервью?
— Ну, ему же дают лекарства.
Ну, в о общем, я поняла и говорю: «Я вас поняла».
И тут начала соображать, и думать, как мне выйти из этого положения. Ну, они не то хотели от меня услышать. Я встала в такую ситуацию, что я не могла отказать. Хотя теперь, откатывая назад, наверное, все-таки было правильно их послать. Извините, вот.
Отвечала где-то что попало, где-то невпопад, где-то вообще их обозвала придурками. Дело в том, что они показали ролики засекреченного дела и попросили меня прокомментировать. Засекреченного дела! Они начали мне показывать, я говорю: «Как хорошо вас ФСБ подготовила, прям вооруженные полностью». В роликах — там наши парни друг с другом типа ножами что-то там. Я говорю: «Слушайте, так это не ножи». Они: «Ножи». Я говорю: «Можно здесь остановить и приблизить?». Ну, там какие-то палки — имитация ножей. Я говорю: «Ну чего, пацаны, они друг с другом занимаются, тренируются. Какой от меня комментарий?».
На втором ролике было… Они что-то как из-под земли — что-то присыпано, прикопано. Какой-то достают ящик, открывается— там пара каких-то оружий, какой-то пистолет, я не разбираюсь. Я сказала: «Это, скорее всего, и есть какое-то страйкбольное оружие, тренируются молча, они ни к чему не призывают». «А вы знаете, что у них нашли? Литературу террористическую, призывы к терактам!».
Последний вопрос меня добил: «А вы знаете, что они собрались взрывать Мавзолей?». Вы знаете, я тут просто… Вроде как и смешно, и несмешно. Я говорю: «Вы приставляете группу, шесть парней, крадутся в темноте под камерами к Мавзолею, чтобы взорвать Мавзолей? Это прокомментировать не я могу, это прокомментировать могут специалисты психиатрической клиники, которые все это состряпали и пытаются им навешать».
И какие-то такие вопросы. Я сразу сказала: «Вы провокаторы». В общем, они (сотрудники ФСБ — МЗ) подготовили этих, так сказать, корреспондентов, слили им секретную информацию. Они ходят по родителям с секретной информацией, это все показывают. Можно предположить, для чего это все делается: склеить они «Сеть» не могут, они уже не знаю, к чему, кого, как привязать к этой «Сети». Похоже, недостаточно у них [доказательств]… Как они говорят: «У нас улики!». Значит нет у них улик, значит нужно им пытать, нужно это склеивать. И натравливать — по-другому я не могу сказать, как ведут себя эти корреспонденты — именно натравливать на родителей каких-то непрофессиональных журналистов.
Елена Богатова, мать Ильи Шакурского
Илюшу задержали вторым. То есть первым задерживают Зорина, который у нас уже сейчас на свободе. Который написал на всех показания, и на основе этих показаний задержали наших детей. То есть Илюшу… ну как бы он пошел искать этого Зорина. Поехал его искать. Его там, значит, в Пензе, значит, задержали эфэсбэшники, потом два часа его держали у себя там, обрабатывали его, давили на него, потом привезли домой. Дома у нас произвели обыск.
Приехали вместе с понятыми, то есть уже приехали с понятыми. Зашли к нему — в квартире они знали, где взять бомбу, которую сами положили в то время, когда Илюшу держали у себя в отделе. В этом я уверена на сто процентов. Ну, там граната. Ну, в общем вот такой вот какой-то сосуд, я даже не знаю. И пистолет, который они нашли под диваном. Так как я живу вместе с сыном… То есть у нас квартиры находятся друг напротив друга. Сын у меня не знает, где что у него лежит. Это знаю я. Я на двести процентов прямо вот уверена в том, что они, когда вот эти два часа они держали моего сына, в это время они взяли ключи от квартиры, вошли к нему в квартиру, вот это все положили. Потому что они по сторонам-то не смотрели, они практически открыли дверку шкафа кухонного, там посуда. И следом же открыли эту нишу под окном. То есть они знали, где это все лежит.
Потом, значит, я не знала об этом… Следователь и адвокат они до такой степени слаженно работали. То есть добрый следователь, хороший адвокат, все у нас правильно, мы как бы идем вместе со следствием, мы помогаем следствию, и нам из-за этого будет поблажка очень большая. Я говорю: «А в чем он вообще у меня виноват-то?» — «Ну, там много всего» — «Ну, ну ладно». В это время пытают моего сына, пытают, пытают. Но в то же время усыпляют мою бдительность.
Его пытают, потом десять дней его держат в карцере, после этого дают свидание мне с ним, но свидание проходит вместе с оперативником. То есть мы сидим друг напротив друга с Ильей. И он мне сказать… Как он мне скажет? Никак он мне просто не мог об этом сказать, но я видела его глаза. Сколько там боли. Сколько там вот этой боли. Потом мы опять же, так же, дружим со следствием, мы работаем со следствием. Токарев-то у нас вообще замечательный следователь. Он мне дает такую поблажку. То есть он не делает моего сына организатором, он делает нам вторую часть (статьи 205 УК — участие в террористическом сообществе — МЗ) — это же большая поблажка. Для мамы. Он, опять же, дает мне увидеться с сыном. И в одном из этих свиданий Илюшка мне говорит: «Мам, тихо, тихо, только вот тихо, мам. Мам, меня пытают. Ты только успокойся». Ну, мы, опять же, дружим со следствием, потому что чтобы на моего сына не повесили первую часть (статьи 205.4 — создание террористического сообщества — МЗ). Мы должны говорить все правильно. Мы должны давать правильные показания. Мы ни в коем случае не должны отказываться от показаний, которые были даны изначально. Ни в коем случае. Если мы только отказываемся, нам вешают первую часть — и все тогда, твой сын будет сидеть.
«Сейчас я-то вам помогу. Я вам помогу. Я вижу, вы адекватная мама. Я вам помогу, мы сделаем ему минимум». Потом, да, я тоже задаю себе такой вопрос: «За что? В чем он у меня виноват-то? Какая 205-я? Какой он у меня террорист?». Он у меня ходит бомжей кормит. Он у меня людям помогает. Он у меня учится в институте на четверки, на пятерки, со всеми общается до такой степени. Все от него в восторге, как он разговаривает, какой он добрый, какой он отзывчивый как друг. И в то же время я с его одногруппниками пытаюсь как-то пообщаться. С одной девочкой я пообщалась, да. Она мне вот это вот все рассказывала. Какое отношение у всех к нему. И здесь же у меня пропадают вот эти свидетели, которые могут дать [показания], рассказать, какой у меня Илюшка. Ладно я там, мама, <…> а это посторонний человек, просто одногруппница. Она у меня исчезает. Она у меня удалилась из «Контакта», она не отвечает на мои телефонные звонки. Я опять адвокату своему задаю вопрос: «А почему у нас свидетели-то пропадают, которых я сама нашла, которые могут в защиту-то его сказать?». Он говорит: «А ты как хотела-то? Никто не пойдет. Ты где? Какую ты правду собралась добиваться? Ты ее не добьешься. Ты против системы решила? Ты против системы решила бороться?».
Я говорю, мне сына-то моего надо защищать. Он у меня не террорист, он за что у меня там сидит-то вообще? Оружие нам подкинули, статью нам эту вот повесили, еще мне говорят, что он у меня вообще организатор. То, что если не так, то, значит, организатором у меня будет. Ну и в итоге все-таки мы собрались, мы встретились с родителями, мы стали разговаривать. Ну, наши дети ни в чем не виноваты. Ни в чем не виноваты. И буквально после того, как я приехала с Москвы после встречи с родителями, 10 апреля у меня у Илюши день рождения, звонит мне следователь и приглашает с ним побеседовать.
Я прихожу в ФСБ, мы начинаем с ним беседовать. Он, опять же, мне рассказывает, что где-то наверное вы что-то не доглядели, вы пропустили. Нет, у вас, конечно, близкие отношения с сыном, но он, может быть, в силу того, что не хотел вас расстраивать, что-то там не договаривает. Я говорю: «Вот эти, значит, тренировки?». — «Это у них подготовление к Майдану». Я говорю: «Это «Зарница». Я сама в нее играла. Сейчас она называется страйкбол. А раньше — я сама по своему возрасту говорю — это «Зарница». И у нас была конспирация. Только раньше телефонов не было, мы в почтовые ящики записки раскладывали. Это тоже самое». Но, в общем-то, мы с ним… «Нет, вы не понимаете, если он сейчас что-то как-то начинает менять — у него первая часть. Вы ему как мама должны помочь». Ну и в итоге он меня обрабатывал два с половиной часа. Доказывая то, что я как мама обязана ему помочь, чтобы он у меня шел на минимум, чтобы у него не было первой части. А на минимум — это от пяти [лет] там, да. Это минимум. Ну какой минимум-то!
Они вообще ни в чем не виноваты. Какой может быть минимум? Ну и в общем-то <…> мы разговариваем… И в итоге он [следователь] говорит: «Если вы хотите своему сыну помочь, то вы должны пообщаться с корреспондентами НТВ, да. Илюше на суде это зачтется. Мы пока предъявим на суде видеосъемку того, что вы там рассказываете, и ему это все зачтется».
Из кабинета я выхожу. Из кабинета следователя я выхожу. Мне можно было бы на своей машине уехать, нет, я сажусь в машину к этим корреспондентам, со мной вместе едет оперативник. Мы приезжаем ко мне домой, ну и начинается разговор. Если честно <…> там на какие вопросы я отвечала, как мне их задавали, [не помню] — у меня истерика. Где-то что-то я в другую степь, как следователь меня предупредил, ни в коем случае не говорите, что они играли в «Зарницу». Ни в коем случае. Оперативник меня направляет, чтобы я отвечала так, как нужно им. Ну то есть вот они находились у меня где-то до 11 часов вечера <…>
Про Льва Александровича [Пономарева] расспрашивали, какую помощь он мне предлагал, оказывал. Я говорю: «Ну, я не вижу пока никакой помощи». Я говорю, вы понимаете, это помощь, когда наши дети невиновные будут с нами. Тогда вот да. Это будет правда, которую, я не знаю, мы добьемся или нет. Но наши дети-то не виноваты. В конце концов, есть ли у вас полная доказательная база, как следователь говорит? «У нас все есть на них, вот все абсолютно». Зачем тогда их пытать? Зачем? Зачем оказывать на меня давление? Зачем я тебе нужна вообще? Я мама, он у меня взрослый. Ты что меня к себе-то вызываешь? Ты зачем мне эти десятиминутные встречи даешь? Ты мне их даешь для того, чтобы он потом описывал, что ему сказали. 16 февраля допрос у Илюши, 16 февраля, по-моему… Я не могу точно вот это вот все сказать. Но дело в том, что он там дает такие [показания], что никакого воздействия там на меня, пыток не было, <…> показания я все давал добровольно. <…> А перед этим мне давали с ним встречаться. И я должна была как мама переубедить его в том, чтобы он все подписал, что ему напишут. «Если вы как мама не убедите его в этом, то никаких встреч не будет. Будет у вас первая часть». Вы не представляете, я как плакала. Как я плакала перед своим сыном. А он мне говорит: «Мам, ты понимаешь, я ни в чем не виноват. Ну ни в чем не виноват». А я ему: «Сыночек, любимый, подпиши, подпиши. Я не могу, — говорю, — без тебя».
Александра Крыленкова, член ОНК Петербурга
Я хотела две вещи добавить. Во-первых, с нами сейчас нет родителей ребят, арестованных в Питере, но они с нами общаются и просто не могли здесь быть — например, мама Виктора Филинкова живет вообще не в России, и ей приехать совсем трудно. Но в Питере ситуация не лучше, то есть она лучше на сегодняшний день, по крайней мере, мы очень на это надеемся, но изначально она была очень похожа. И вот это то, что меня в этом деле поражает больше всего: это разные регионы, разные следственные группы, разные оперативники, но абсолютно одинаковые методы работы.
То, как ребята описывают, что с ними происходило. Ребята из Пензы, описывающие своим адвокатам, и то, что зафиксировала ОНК Санкт-Петербурга на арестованных в Петербурге — это абсолютно одинаковое применение тока, это абсолютно одинаковые, извините, белые перчатки, в которых приходят сотрудники ФСБ, и проверяют, насколько человек реагирует на пытки. Извините, это вообще довольно трудно себе представить, что это не эмоциональное насилие, а спланированное, четкое, с проверкой пульса, жизненных показателей и с применением пыток, в том числе — током и ударами и так далее, и проверка реакции ребят на эти действия.
Мне, как человеку, живущему в этой стране, очень хочется знать, почему сотрудники ФСБ в разных регионах ведут себя абсолютно одинаково, применяя жесточайшие нечеловеческие пытки. Мне ужасно стыдно перед родителями, что приходится произносить это в их присутствии, но, к сожалению, на мой взгляд, это необходимо знать.
Лев Пономарев, правозащитник
Три человека, находясь в совершенно разных местах, дали показания о пытках. Есть адвокатские опросы — это все зафиксировано юридическим документом. Это Пчелинцев — вот мама и папа сидят, это был Шакурский, вот сидит Лена, и это был… Филинков, самое главное. Два человека уже отказались от этого, они сказали, что мы оговорили себя, но самое главное, почитайте эти показания — они одинаковые, это нельзя придумать. Был бы один Филинков — он не отказался, держится — но ему повезло, что он оказался в Питере, члены ОНК зафиксировали побои, ожоги, и сейчас идет проверка. В принципе, благодаря Москальковой, я думаю, в основном, идет доследственная проверка жалоб на пытки. Она идет, она не закончена, и конечно они будут это заматывать. И важно, чтобы журналисты это все время поддерживали. И очень важное хочу сказать, то, что мы, может, видим впервые: объединились родители, которые борются за своих детей, им действительно… вот две Лены здесь, они рядом, они в последний момент присоединились к родительской группе, и все аргументы вы видите, почему они боялись — потому что они рисковали вступать в эту группу и в борьбу за своих детей, но они все-таки рискнули, они просто удивительно сильные люди, и они пришли к вам, говорить о беде.
«Чтобы оградили наших детей от палачей в погонах, которые издеваются над ними. Я не могу этого понять: ну ты справился — три человека вас зашло — с мальчишкой в наручниках вы справились, твари. Ну как это все можно терпеть, у нас здесь правовое государство, у нас все честно, у нас все правильно, ну, в конце концов, сколько мы будем терпеть? Над нашими детьми из-де-ва-ют-ся палачи в погонах, которые должны, в конце концов, нас защищать — а мы их боимся! Ну это какая правда-то? Мы за жизнь детей боимся, в конце концов, я его родила для тебя, твари?».
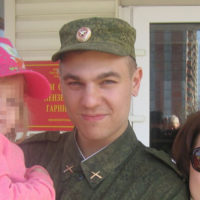



Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: